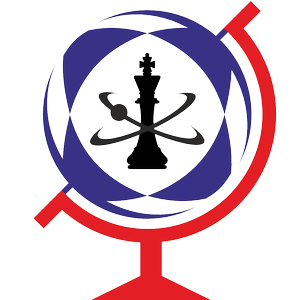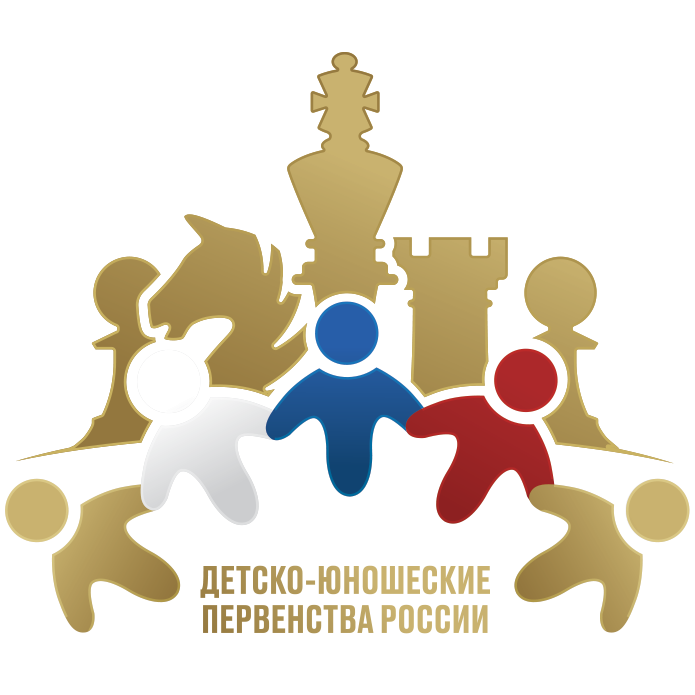Куда смотрел возница. Жестокий Лувр
Продолжаем публикацию глав из романа Виктора Хенкина "Одиссея шахматного автомата"
Одиссея шахматного автомата. Сотворение легендыБольшая игра. Тени в рясах
Короли и пешки
Говорящая машина. Чем хуже – тем лучше
Грустная шестеренка. Ложный след
Дух калабрийца
Париж. Требуется сенсация
КУДА СМОТРЕЛ ВОЗНИЦА
– Играем мы с графом Брюлем в шахматы. Положение запутанное, он призадумался, а я задремал. Вдруг слышу посторонний звук. Открываю глаза: кто-то ставит на стол чашечку кофе, бисквиты. Достаю шиллинг, бросаю на поднос: «Сдачи не надо!» Брюль как прыснет! Тут я окончательно проснулся. Оглядываюсь: мы в гостиной на Олд Беллингтон-стрит, а передо мной с раскрытым ртом Дженни, горничная графа. «Извините, – говорю, – думал, в клубе играю».
Филидор заразительно смеется, запрокинув голову. Морщинки на шее разглаживаются, но предательски колышется второй подбородок. Большой и вальяжный, он напоминает добродушного короля из старинных французских сказок.

– Па, верно, что тебя пригласили в академию сыграть с шахматным автоматом? – спрашивает Андре, его старший сын. В двадцать лет все хороши, но этот прекрасен, как Нарцисс.
– Мама проговорилась? А я-то собирался тебе сюрприз преподнести. Но раз уж ты такой всезнайка... Завтра поедешь со мною в Лувр.
– Вот здорово! Об автомате столько слухов ходит... Ты думаешь, это настоящая машина?
– Что-то не верится. Говорят, в кафе «Режанс» этого турка общипали, словно петуха, не так уж он и грозен. Но если автомат и впрямь чистая машина, тогда в его действиях должна быть какая-то система, метод, что ли, и этот метод можно будет обнаружить.
– Игра пешками, как у тебя?
– Почему бы и нет?! – весело восклицает Филидор. – Научное подтверждение моего «Анализа». Между прочим, и учение Рамо о гармонии нашло обоснование в физических законах Савера.
– А если у автомата итальянский акцент?
– Тогда это не автомат. Итальянцы играют как Бог на душу положит, закономерностей они не признают, уповая на вдохновение и ошибку противника. Не спорю, есть среди них хорошие игроки, слышал я о Рио, Лолли, Понциани, но встретиться с ними не довелось, хотя они и пускают в меня язвительные стрелы. Ну, а наши поклонники Калабрийца никогда не выдерживали правильной игры, в своих наскоках они терпели фиаско, как Дон Кихот с мельницами.
– Но Калабриец обосновывает свои игры вариантами...
– Они содержат немало ошибок, да и совсем не обязательны, хороший игрок всегда найдет способ избежать их с выгодой. Зато владея общим планом и имея перед собой конкретную цель, легко находить лучшие ходы. Сейчас я покажу тебе партию с графом Брюлем, и ты убедишься, что игра шла как по нотам, хотя и вслепую.
Отец и сын расставляют шахматы.
– Андре, – заглядывает в дверь Элизабет, жена Филидора, – к тебе пришли.
– Ко мне? – удивляется сын.
– Не к тебе, а к отцу. Господи, вечно с вами путаница!
– Так кто же пришел, Элиза?
– Мсье де Кемпелен.
– Кемпелен?! Изобретатель шахматного автомата!
– Что же удивительного в том, что он хочет с тобой познакомиться?
– Действительно, – успокаивается Филидор. – Проси его.
Он поднимается навстречу Кемпелену.
– О, мсье! Весьма рад, что вы нашли время навестить меня... Мой сын Андре... Присаживайтесь, пожалуйста!
Хозяин и гость, приветливо улыбаясь, исподволь изучают друг друга. Обычные слова, обычные вопросы. Как вам понравился Париж? Бесподобен! Долго ли вы у нас пробудете? К сожалению, нет. Куда держите путь? В Лондон. О, Лондон! Там вы найдете немало любителей шахмат…
Названы шахматы. Вот они рядом, на столике. Взгляд Кемпелена задерживается на расставленных в боевом порядке фигурах. Сейчас он сделает рискованный ход, надо только дождаться, пока уйдет этот красивый юноша.
Андре читает в глазах гостя немую просьбу и откланивается. Уже прикрыв двери, он слышит странные слова Кемпелена и настороженно замирает.
– Я не волшебник, мсье, и мой автомат играет не лучше меня. Но сейчас это единственный источник моего существования. Судите сами, какой удачей для меня было бы объявить в газетах, что шахматный автомат победил самого Филидора!
Андре едва сдерживает восклицание. Вот она, отгадка! Автомат не машина, им управляет человек...
Филидор обескуражен. Какой дать ответ? Согласиться? Это нечестно. Отказать? Но Кемпелен так искренен, так откровенен... Что для него, Филидора, одержавшего столько побед, какое-то там поражение от шахматного автомата! Пустяк. Случайность. А для Кемпелена? В чужой стране... Возможно, в долгах, как некогда он сам...
Пауза длится бесконечно долго. Андре стыдливо озирается. Нехорошо, если его застанут у дверей. Верх берет любопытство. Он остается.
– Мсье, – доносится наконец приглушенный голос отца, – я готов пойти вам навстречу, но об этом никто не должен знать.
– Можете на меня положиться, это же в моих интересах.
– Но есть еще одно условие...
Ужели деньги? Андре прислоняется к косяку, чувствуя, как кровь ударяет в голову.
– Мое намерение,– продолжает Филидор, – не должно быть очевидным. Пусть ваш автомат правильно и энергично атакует мою позицию. Необходимо, чтобы я защищался и чтобы никто не заметил, что я поддаюсь...
Андре с облегчением вздыхает и тихонечко отходит от двери. Теперь он знает, что произойдет в академии. Как сказал про него отец? «Всезнайка»? Но Андре не чувствует за собой вины. Чистая случайность. Он не собирался подслушивать. Просто Кемпелен поторопился начать разговор…

– Тут какой-то тип ошивается...
Андраш сообщает свои наблюдения вполголоса, делая вид, что занят лошадьми.
У соседнего дома, где улица Мишодьер пересекает улицу Сент-Августина, маячит фигура в коричневом плаще. Кто это? Не хватало еще, чтоб его застали у Филидора.
Кемпелен вглядывается в незнакомца. А тот и не думает маскироваться. С наглой ухмылкой перебирает четки, словно ждет приглашения к беседе. Вот тебе и незнакомец! Да это же монах из Регенсбурга! Кемпелена охватывает гнев. Ну держись, наглец! На войне, как на войне...
– Андраш, – тихо, но многозначительно говорит он кучеру, садясь в карету. – Видишь лужу, что поменьше Дуная, но побольше Сены? Давай проедем так, чтобы отбить у отца-монаха охоту совать нос в чужие дела.
Андраш прищуривается, прикидывая расстояние до угла, вскакивает на козлы, зычно кричит «хоп!» и пускает лошадей прямо на монаха. Тот еле успевает отскочить в сторону. Четыре пары копыт разламывают лужу, жидкая грязь окатывает монаха с головы до ног.
Если бы Кемпелен мог увидеть сейчас Вишню, он вряд ли рискнул над ним посмеяться. Страшная гримаса исказила лик иезуита, серые комья повисли, словно струпья на прокаженном, прозрачные глаза, полные ненависти, округлились, как два белых блюдца.
– Hostis generis humani![1] – беззвучно шепчет Вишня и видит, как из дома выходит стройный юноша.
– Мсье, простите ради Бога...
Андре останавливается, пораженный зрелищем, но монах уже перевоплотился в жалкого сгорбленного человечка.
– Вы не окажете мне помощь?
– Охотно, святой отец. Я провожу вас к консьержке, там вы приведете себя в порядок... Как это вас угораздило?
– Карета окатила... Вы не скажете, кто в ней ехал? Наверное, какой-нибудь важный господин. Он вышел из этого же подъезда.
– Да? – настораживается Андре. Его учили всегда говорить правду, но сейчас он, кажется, соврет и не испытает угрызения совести. – Я никого не видел. Может быть, кто-то приезжал к адвокату, мсье Бежу? Он живет этажом выше.
Андре пропускает монаха к консьержке и на всякий случай возвращается домой, чтобы сторожить свою ложь. Через четверть часа, увидев в окно удаляющегося монаха, он спускается вниз.
– Монах вас о чем-нибудь расспрашивал, Мишлин?
– Спросил только, дома ли мсье адвокат.
– А он дома?
– Третий день, как в Руан уехал. Суд там какой-то...
Сказать отцу о монахе? – думает Андре. Но тогда придется объяснить причины своих опасений. Он уже слышит насмешливое «всезнайка» и теряет желание стать объектом родительских нравоучений. Да и нет у него оснований подозревать несчастного монаха в злом умысле.
Если бы у Мофля д'Анжервиля спросили, сколько лье исшагал он по Парижу за свои 30 лет, вопрос озадачил бы его в не меньшей степени, чем теорема Ферма. Вот и сейчас неутомимый газетчик идет вверх по улице Мазарини. Спору нет, думает Мофль, итальянец преданно служил королеве, хотя и себя не забывал. Но куда больше улице подошло бы имя Мольера. Здесь, в маленьких парижских театрах великий комедиограф дебютировал сначала как актер, затем как драматург. В другой раз Мофль наверняка припомнил бы множество пикантных историй, связанных со служителями и поклонниками Талии, но сегодня он озабочен интригующим известием. В кафе «Прокоп», где его приятель Поль закатил королевский обед по случаю неожиданного гонорара, кто-то пустил слух, что в три часа пополудни в академии наук будет демонстрироваться шахматный автомат, а играть с ним вызвался сам Филидор, на днях вернувшийся из Англии. Такое событие д'Анжервиль без внимания оставить не мог. Он еще не знает, правда это или вымысел, но все же, пожертвовав десертом, спешит в Лувр, хотя и без особых надежд на успех. Попасть в академию, особенно на закрытое заседание, удавалось лишь немногим его коллегам. Сам он был там всего один раз – прошлым летом, когда гостившему в Париже русскому дофину Павлу показывали (нашли, что показывать!) опыты по выяснению природы обоняния и выделению зловонных испарений (кажется, так это безобразие называлось). Эксперименты проводились во дворе, но против ученых свежий воздух оказался бессилен. Поднялся такой смрад, что пощады запросил даже привычный ко всяческим миазмам Лавуазье. Как написал потом в своем газетном отчете д'Анжервиль, опыты поражали не столько воображение, сколько чувствительные носы. Русский принц хмурился и мрачнел...
Д'Анжервиль идет вдоль фасада бывшего дворца Мазарини и сворачивает к улице Сены. Стороннему наблюдателю может показаться, что он всецело погружен в свои мысли и ничего вокруг не замечает. Но это не так. Наметанный глаз машинально фиксирует окрестные предметы. Его обгоняет подгулявшая компания. Из дворца выходят два серьезных господина в профессорских мантиях. У сквера стоит груженная камнями телега, возница держит лошадь под уздцы. Прачка тащит корзину с бельем. Собака гонится за кошкой.
До угла уже рукой подать, как вдруг за его спиной раздается грохот и мимо проносится телега, которую он только что оставил позади. В то же мгновение со стороны улицы Сены на перекресток въезжает карета. Кучер отчаянно хлещет лошадей. Телега цепляет заднее колесо кареты. Слышится звон бьющегося стекла. Обезумевшая лошадь вздымается на дыбы. На миг все застывает, как на гравюре. Но вот телега срывается, и лошадь уносит ее прочь. Карета резко накреняется, из нее вываливается человек, а на него медленно сползает большой неуклюжий ящик. Подоспевший кучер удерживает его от падения. Из кареты выпрыгивают еще три пассажира. Двое из них д'Анжервилю знакомы. Это Кемпелен и Антон.
Д'Анжервиль смешивается с толпой, обступившей место аварии. Народ встревоженно гудит. Почему понесла лошадь? Куда делся возница? Не пострадали ли люди? Одни подают советы, другие предлагают помощь. Кемпелен отрицательно машет головой. Он побледнел, но владеет собой, отдавая короткие распоряжения. Четверо мужчин подхватывают зачехленный предмет и бережно несут его вниз по улице. Кемпелен достает из кареты небольшой, но увесистый ящик, держа его за ручку, как чемодан. Вскоре все скрываются в третьем доме от угла. Из ворот выбегает еще один человек. Он распрягает и уводит лошадей. Теперь о происшествии напоминают лишь охромевшая на одно колесо карета да глубокая борозда, вспаханная просевшей осью.
Толпа редеет. Д'Анжервиль встречается взглядом со стоящим невдалеке человеком. И хотя простая рабочая блуза и сдвинутая на лоб широкополая шляпа изменили облик, он узнает собеседника из кафе «Режанс». Такие глаза не забываются.
Человек подходит к д'Анжервилю.
– Добрый день, мсье! Что здесь происходит?
– На карету Кемпелена наехала телега.
– Какая неприятность... Куда смотрел возница? Наверное, был пьян?
В его голосе слышится издевка, и д'Анжервиля охватывает раздражение.
– Спросите что-нибудь полегче, мсье...
– Полегче? – саркастически улыбается тот. – Извольте. Как поживает ваша статья?
– Вы обещали представить факты.
– А этого вам мало? – кивает он на беспомощную карету.
– Что вы имеете в виду?
– Предостережение свыше.
– Вы уверены, что «свыше»?
– Главное, чтобы в этом был уверен мсье Кемпелен!
И странный человек припускается вниз по улице Сены.
Чертовщина какая-то, думает д'Анжервиль. За что он так ненавидит Кемпелена? Кто он?
Д'Анжервиль замечает, что остался в полном одиночестве, лишь уличный пес смотрит на него, подобострастно виляя обрубком хвоста.
«Предостережение свыше», – задумчиво повторяет Мофль, оглядывая место происшествия. А может быть, «сбоку»?
За перекрестком, напротив улицы Мазарини развесили растопыренные пальцы листьев три каштана. Д'Анжервилю чудится, что они манят его к себе. Он подходит к деревьям. Здесь? Он становится лицом к перекрестку. Отсюда хорошо видны обе улицы. Вон дом Кемпелена, а вон и сквер. Не сюда ли смотрел возница? Он призывает воображение, и вот уже от подъезда трогается карета, человек, стоящий за деревом, подает знак, и обезумевшая от внезапной боли лошадь несет груженный камнями снаряд навстречу цели...
– Ну, что ты ко мне привязался? – говорит д'Анжервиль не отстающему от него псу. – Нет у меня ничего. Понимаешь?
Пес прижимает уши и заливается звонким лаем.
– Иди сюда, я тебя хоть поглажу.
Пес опасливо пятится и останавливается на почтительном, по его мнению, расстоянии.
Мофль делает шаг вперед и наступает на какой-то твердый предмет. В траве, словно черная змейка, свернулась ниточка деревяшек. Четки! Откуда они здесь? Кто обронил их? Он сует четки в карман. Сейчас не время для раздумий. Нужно поспешить в Лувр. Может быть, Кемпелен еще приедет.
Пес провожает его до моста Карузель и тоскливо скулит, вытянув морду. Д'Анжервиль свистит ему в ответ.

– Иоганн!
– Да, – глухо откликается сундук.
У Кемпелена дрожат руки, когда он сдвигает крышку автомата. Юноша выглядит скверно. Волосы слиплись, по лбу стекает струйка крови. Он тяжело дышит, но, увидев вокруг трагические лица, мягко улыбается.
– Ну что вы так на меня смотрите? Что произошло?
– С какой-то телегой столкнулись, – стараясь сохранить спокойствие, отвечает Кемпелен. – Как вы себя чувствуете?
– Голова немного кружится... Мы не опоздаем?
В дверях сгрудились слуги, дети, Анна.
Тереза бросается к Иоганну.
– Вам больно?
– Ни капельки, – храбрится юноша.
Тереза слюнявит кружевной платочек, стирает запекшуюся кровь, осторожно проводит ладонью по волосам и нежно касается губами его щеки. Становится тихо, как на похоронах. Все поражены фантасмагорическим зрелищем: припавшая к автомату девушка, белое, словно обсыпанное мукой лицо юноши и зловещая голова в тюрбане с дьявольским блеском стеклянных полусфер.
«Болван», – явственно слышит Кемпелен, и перед ним проносится то ли тень, то ли отзвук далекого сновидения. Ему нестерпимо хочется оторвать эту отвратительную голову, растоптать эти нечеловеческие глаза, он уже делает шаг вперед, но, овладев собой, произносит металлическим голосом:
– Здесь слишком много людей!
Комната пустеет. Жужа промывает ранку на лбу Иоганна, накладывает корпию, перевязывает бинтом.
– Иоганн, – Кемпелен кладет руку на его плечо, – при других обстоятельствах я немедленно уложил бы вас в постель. Но сегодня демонстрацию отменить нельзя. Вы способны продержаться два часа?
– Конечно! Я совсем здоров, и голова прошла... Вот только турок...
Перегнувшись пополам, Антон копошится в автомате.
– Механизм в порядке, – распрямляется он.
– Слава Богу, – облегченно вздыхает Кемпелен. – Пойду проверю говорящую машину. Пусть Ференц закладывает другую карету. Автомат загрузите во дворе, чтобы никто не видел. Карету подадите к подъезду, через четверть часа выезжаем. Держитесь, Иоганн!
В дверях он сталкивается с Жужой. Девушка держит в руках черную косынку. Она повяжет голову Иоганна, чтобы белый бинт не мелькнул ненароком при показе автомата...

Ехали молча. Миновали охромевшую карету. Кемпелен старался не думать об аварии. Он собирал разбежавшиеся мысли, вспоминал слова, которые хотел сказать высокому собранию. Это просто счастье, что машины не пострадали, а Иоганн отделался легким ушибом.
У моста Карузель их облаяла собака. Кемпелен вздрогнул и спросил Иоганна, не болит ли у него голова. «Нет», – тихим голосом отозвался ящик. Ничего, одну игру выдержит, сегодня она будет короткой, подумал Кемпелен, а вслух сказал: «Молодец!»
С Тюильрийской набережной хорошо видно, как к Лувру подкатывают кареты, и важные господа исчезают в высоком портале. А вот и Кемпелен. Слуги несут автомат. Пора действовать.
Д'Анжервиль огибает дворец и попадает во внутренний двор. План его бесхитростен, а главное, – безнадежен. Он будет стоять перед черным ходом до тех пор, пока не привлечет к себе внимание. Выйдет консьерж и спросит, какого черта он здесь ошивается. Тогда... Тогда он предложит служителю сто луидоров. Мешок золота. У того алчно разгорятся глаза, и он поведет Мофля потайным ходом...
Господи! Какие луидоры, какое золото, когда у него от силы пять ливров! Он сует в карман руку и натыкается на четки. Может, они чего-нибудь стоят? Встречаются же ценные поделки! Он взвешивает ниточку на ладони, внимательно разглядывает и даже обнюхивает. Ничего примечательного. Черное дерево, отполированное сотнями тысяч прикосновений. Одна костяшка почему-то красная. Деревяшки приятно ласкают пальцы, отвлекая от безрадостных мыслей.
Нет, так дело не пойдет, думает д'Анжервиль, перебирая четки. Нужно сочинить какую-нибудь душещипательную историю. Итак, сейчас отворится дверь и появится сердитый консьерж.
«Что вам здесь надобно?» – «Ох, мсье профессор, окажите милость, дозвольте хоть одним глазом взглянуть на господ академиков, которых чту, как отца родного!» – «Это невозможно, ступайте прочь!» – «Сжальтесь, мсье профессор, сотни лье прошел я по дорогам Франции ради этой минуты и скорее утоплюсь в Сене, чем вернусь домой с разбитыми надеждами».– «А что вы, собственно, хотите?» – «Всю жизнь свою посвятил я изучению разных наук, но в сложении не ушел далее пяти ливров с мелочью, а в философии остановился на общественном договоре с собственной супругой. Так дайте ж мне подышать одним воздухом с великими людьми, которые за завтраком решают теорему Пифагора, а за ужином придумывают новые названия старым звездам!» – «Послушайте, милейший, уж не с луны ли вы свалились?» – «Моя жена и мсье аббат придерживаются именно такого мнения. Но я-то хорошо помню, что родился в Байоне». – «В Байоне? Что ж вы сразу не сказали? Земляк! Гасконец! Да я для вас...» – «Хоть я и гасконец, но скромен и неприхотлив. Меня вполне удовлетворила бы узенькая щелочка с видом на зал заседаний». – «Следуйте за мной!»
Мофль парит на крыльях фантазии, постукивая костяшками четок. Черная, черная... Красная. Черная, черная, черная...
– Мсье!
Из приоткрывшейся двери выглядывает чье-то желтое лицо.
– Проходите быстрее! – И Мофль не успевает опомниться, как попадает в небольшой вестибюль.
– Следуйте за мной, – говорит человек.
Они идут по каким-то лестницам, переходам и наконец подходят к дверям, за которыми слышится отдаленный шум.
– Будьте осторожны, – шепчет проводник, пропуская вперед спутника, – вас никто не должен видеть. Когда закончится заседание, я приду за вами.
Д'Анжервиль оказывается в полутемной каморке, лишь маленькое круглое оконце роняет слабый свет на стоящую рядом табуретку. Он заглядывает в оконце, и его взору предстает амфитеатр, заполненный людьми. Посреди зала стоит человек в черном фраке.
– Итак, господа, – произносит человек, и д'Анжервиль узнает в нем Кемпелена, – я познакомлю вас с устройством говорящей машины.
Как в сказке, думает Мофль и, примостившись на табуретке, превращается в слух и зрение.
ЖЕСТОКИЙ ЛУВР
Каждый шаг по древнему Лувру рождает в душе священный трепет. Вечными хранителями истории застыли аллегорические фигуры – «скульптуры из камня для короля». Более двухсот лет назад здесь в окружении пышной свиты вот так же шествовали Генрих II и Екатерина Медичи. Кажется, еще мгновение – и зазвучит протяжная перекличка стражи, возвещавшая о приближении королевской четы. Но Лувр безмолвствует. Лишь гулким эхом перекатываются по коридорам отзвуки шагов.

Поворот. Лестница Генриха II. Кемпелен не замечает крутых ступеней, его окрыляет близость цели. Распорядитель молча указывает дорогу, а следом осторожно и торжественно, словно сказочный сундук с драгоценностями, слуги несут шахматный автомат.
– Здесь будет проходить заседание, – говорит распорядитель, распахивая двери.
Вот она, святая святых французской наукой!
В глубине зала над мраморным камином огромное полотно Антуана Копеля – Минерва держит в руках изображение короля. Прекрасное лицо богини мудрости непроницаемо... Стены увешаны портретами членов королевского дома. Вельможно, но милостиво взирают они на чужеземца. По обеим сторонам возвышается амфитеатр кресел. Зал еще пуст, но Кемпелену чудится гул голосов, движение многоликого собрания. Взгляд скользит по рядам все выше, выше, и вот уже стремительно несутся навстречу лепные орнаменты, причудливая роспись потолка. Рога изобилия щедро сыплют свои дары, невиданные животные будят мечты о неведомых странах, сверкающее оружие само просится в руки... Посредине потолка на овальном щите расцветают королевские лилии, а по углам старинной вязью выведен вензель Н – инициал воинственного короля, сраженного копьем на рыцарском турнире.
– Ваши машины, мсье, вы можете подготовить в зале Семи каминов.
Они проходят по паркету, выложенному кругами, квадратами, равнобедренными треугольниками («Торжество пропорций», – отмечает Кемпелен), и попадают в следующий зал. Свое название он получил по числу каминов, украшенных скульптурами. Зал разделен перегородками. Здесь проводятся научные опыты.
– Прошу сюда, – приглашает распорядитель, указывая на небольшое помещение, заставленное чучелами животных. – Заседание начнется через четверть часа. Ваши слуги, мсье, могут подождать внизу.
Антон расчехляет автомат: так Иоганну легче дышать. Кемпелен извлекает из футляра говорящую машину.
Зал Генриха II заполняется людьми. Одни рассаживаются в креслах, другие беседуют, расположившись небольшими группками.
– Устраивают из академии балаган, – ворчит элегантный господин с бриллиантовой булавкой в галстуке. – То сумасшедший Месмер, то недоучка Микаль, а теперь, извольте: венгерский Калиостро... Что вы на это скажете, мсье Лаплас?
Молодой кряжистый мужчина потирает ладонью подбородок.
– Audiatur et altera pars[2], мсье Лавуазье. И думаю, отнюдь не случайно к нам пожаловал Франклин, полгода на заседаниях не показывался...
– Ничего удивительного, шахматы без Франклина все равно что громоотвод без грома.
Опираясь на неразлучную трость с костяным набалдашником, к собеседникам подходит американский ученый.
– Добрый день, господа! Не правда ли, великолепная погода? Солнечно и не жарко. Я вот ехал сейчас из Версаля и, честно говоря, завидовал людям, работающим на свежем воздухе. А мы даже отдыхать не умеем! Проводим время за беседами или шахматами, а то и вовсе за картами вместо того, чтобы размять свои кости, ускорить движение жидкостей в теле, наконец просто насладиться природой. А каков результат? Подагра!
– Вы совсем нас забыли, мсье Франклин.
– Напротив, мсье Лавуазье, я внимательно слежу за вашими великолепными исследованиями. Критика флогистонной теории весьма убедительна. Будущее за кислородом. Виват, кислород!
Лавуазье церемонно отвешивает поклон. Лаплас обнажает в улыбке крупные белые зубы.
– Поневоле убеждаешься в том, – присоединяется к беседе астроном Байи, – что закон всемирного тяготения неизменен. Стоило появиться шахматам, как на небосклоне восходят шахматные светила.
– Вы имеете в виду Филидора?
– Нет, мсье Франклин, вас. И весьма любопытствую по поводу шахматного автомата. Вы ведь, кажется, играли с ним в Версале?
– Занятная фигура, господа! Движения точные и последовательные, да и играет замечательно. Принцип действия автомата держится изобретателем в секрете, дело, видимо, не обходится без участия человека, хотя я слышал самые различные предположения. Одно могу сказать с уверенностью: мсье Кемпелен серьезный ученый, круг приложения его таланта необычайно широк – шенбруннские фонтаны, паровые двигатели, говорящая машина...
– Ее мы сегодня увидим, – вставляет Лаплас.
– Надеюсь, что услышим тоже.
– И что же вы надеетесь услышать?
– Прежде всего, что машина заговорит. И если она действительно копирует человеческую речь, значит, законы механики распространяются на многие естественные процессы, протекающие в живом организме, и рассуждения покойного Ламетри получат новые доказательства.
– Не думаю, что в наше время нужно доказывать всеобщность законов механики.
– Вам, мсье Лаплас, может быть, и не нужно, вы со вселенной на дружеской ноге, но вашему покорному слуге не все ясно.
– Все ясно только Господу Богу и мсье Бюффону. Гипотезу о переходе мертвой материи к живой он излагает так уверенно, будто получил на это сеньоральные права от самого создателя.
Колокольчик возвещает о начале заседания.

Антуан де Кондорсе, исполняющий обязанности секретаря академии, обводит глазами собрание.
– Господа, у кого имеются вопросы к мсье Кемпелену?
Кемпелен только что познакомил ученых с устройством говорящей машины и показал ее в действии. Машина с честью выдержала испытания, чего нельзя сказать о нем самом. Смешки, кашель, приглушенные разговоры, нетерпеливое движение в креслах – все это свидетельствовало о скуке и безразличии.
– П-позвольте м-не, – раздается чей-то голос.
– Прошу вас, мсье Монж.
– К-как-кие н-научные цели п-преследует изобрет-татель?– разводит руками Монж, чертя в воздухе безупречную окружность.
Кемпелен ощущает приступ гнева. Что он им, мальчишка, что ли! Его не слушали... Ну, держись, заика![3]
Он склоняется над машиной;
– Изуч-чение м-механизма ч-человеч-ческой р-р-реч-чи, – нарочито запинаясь, произносит детский голосок.
На миг воцаряется тишина. Лица академиков застывают, как греческие маски. И вдруг зал взрывается оглушительным хохотом. Стрела достигла цели.
– Я же говорил, что будет балаган! – восклицает Лавуазье. – Но каков механик! Конечно же, этот Орфей годится для Монжа. Любой адъюнкт может теперь заменить нашего геометра при чтении лекций. Нажал на кнопки – вот вам и мсье Монж собственной персоной!
– В вашем уравнении недостает одного члена, – замечает Лаплас, – без жестикуляции нет Монжа.
– Так пусть он и жестикулирует на здоровье, способствуя, как утверждает Франклин, циркуляции жидкости в организме. А мемуары будет зачитывать машина!
Зал еще долго не может успокоиться, и в смутном хоре голосов Кемпелен ощущает неприкрытую враждебность.
Кондорсе призывает к тишине
– Мсье Монж, вас удовлетворил ответ?
– Н-не удовлетворил, – столь же невозмутимо, сколь невнятно, произносит геометр. – М-машина в-весьма заб-бавна и даж-же м-мне н-нравится, – он выдерживает паузу, рисуя перстом прямую линию. – Но она т-только иг-грушка!
У Кемпелена перехватывает дыхание. А фигуры Вокансона, которыми вы все восторгались, не игрушки? Но он воздерживается от гибельной реплики. Пошутить над Монжем – это еще полбеды, но задеть Вокансона – значит, задеть честь Франции. В Версале он уже попадал впросак.
– Я разделяю мнение мсье Монжа, – подает голос одна из вельможных членов академии Бошар де Сарон. – Если мсье изобретатель изучает проблемы звуковой речи, он прежде всего должен изложить свою гипотезу о ее происхождении. Почему, например, человек не ограничился языком жестов?
Провокационный смысл вопроса очевиден: его хотят столкнуть с Сорбонной. Но Кемпелен начеку.
– Я не ставил перед собой проблем естественной истории, господа. Цель моих опытов – раскрыть природу образования различных звуков. Я исследую механику речи, артикуляцию, фонетику. Что же касается языка жестов, то здесь, в Париже, я побывал в аббатстве дель Эпе и встречался с молоденькой девушкой, лишенной дара речи. Мы прекрасно друг друга понимали и могли даже выражать абстрактные понятия. Это утвердило меня в предположении, что если детей обучать единому языку жестов, языковой барьер между нациями может быть преодолен. Подобную необходимость я как венгр ощущаю особенно остро.
– Весьма интересная и смелая мысль, – говорит Франклин, и Кемпелен посылает ему благодарный взгляд.
– Латынь вас уже не устраивает? – насмешливо спрашивает Сарон.
– Лично я предпочел бы, чтобы во всем мире разговаривали по-французски, – добавляет Лавуазье.
– Попробуйте убедить в этом англичан, – замечает Франклин; вызывая оживление в зале.
– Господа, – говорит Кондорсе, – мы отвлеклись от мемуара. Мне бы хотелось спросить мсье Кемпелена о назначении его изобретения.
– Признав, что принципы звукообразования едины для человека и для машины, а также располагая описанием этого процесса, врачи и педагоги, как я надеюсь, смогут улучшить методику лечения людей, страдающих дефектами речи.
– Позвольте полюбопытствовать, сколько несчастных ваша машина уже исцелила? – насмешливо спрашивает Сарон.
– По возвращении в Венгрию я как раз собираюсь этим заняться.
– Вот и прекрасно! Когда вы получите благоприятные результаты, мы будем рады вновь с вами встретиться.
– А известно ли мсье изобретателю, – говорит Лавуазье,– что не далее как на прошлой неделе аббат Микаль уже показывал нам свои говорящие устройства?
Если бы говорящая машина вдруг пустилась в пляс, Кемпелен изумился бы куда меньше. Аббат Микаль? Значит, его опередили?
– И что же? – растерянно произносит он.
– Академия не признала работы в этой области достойными внимания. Testemonium paupertatis[4].
Удар безжалостен и преднамерен. Кемпелен не находит возражений. Да они и бессмысленны.
– Господа, – повышает голос Кондорсе, – я полагаю, что выражу consensus omnium[5], если попрошу мсье Кемпелена перейти к демонстрации шахматного автомата.
Солнце струится в высокие окна зала Генриха II и, зависая клубящимися снопами, рассыпается по паркету спелыми колосьями. Отблески лучей, падая на пышные одежды манекена, переливаются всеми цветами радуги, живостью красок соперничая с висящими на стенах полотнами. Король в руках Минервы с удивлением взирает на дерзкого мусульманина, ведущего свои деревянные армии против великого шахматного игрока Франсуа Андре Филидора.
Но ученых не волнуют сказки из «Тысячи и одной ночи»; в развернувшемся перед ними волшебном зрелище они видят лишь интеллектуальную головоломку. Дана задача со многими неизвестными. Требуется найти ответ.
У Анри Декрана, математика и юриста по образованию, адвоката по профессии, а по призванию – обличителя иллюзионистов, ответ уже готов, и он не скрывает свои наблюдения от адъюнктов, жадно ловящих каждое его слово.
– После Пинетти[6] меня никакими фокусами не удивишь. Его лимонное дерево вырастает, цветет и плодоносит прямо на глазах, чучело фазана насвистывает любые мелодии по заказу публики. Кстати, в реквизите итальянского престидижитатора есть и турецкий паша. Он кланяется, угадывает карты, отвечает на вопросы зрителей, покачивая головой.
– А устройство этих автоматов вам известно?
– Мне достаточно было раз взглянуть, чтобы понять, в чем секрет. Столики, на которых устанавливались автоматы, за все время представления не сдвигались с места. Не нужно быть Декартом, чтобы заключить: в ножках скрыты упругие тросики, выведенные в другое помещение, и помощник Пинетти может по сигналу хозяина включать и выключать различные механизмы, находясь за сценой.
– Но шахматный автомат установлен на роликах и свободно перемещается по полу. Значит, механизм, приводящий в движение турка, работает автономно!
– Такая постановка вопроса весьма последовательна. Но давайте продолжим рассуждения. Предположим, что человека внутри автомата нет, приводы в нашей гипотезе тоже исключаются. Спрашивается, существует ли еще какой-либо способ управления механизмом?
– Магнетизм?
– Браво! Только магнетизм! Но это уже по части нашего уважаемого мэтра, – Декран почтительно наклоняет голову в сторону соседа, худощавого господина лет сорока, с орлиным профилем и острым взглядом из-под нависших бровей.
– Могу вас заверить, господа, что использовать силу магнита столь избирательно и на таком удалении от объекта совершенно невозможно, – поучающим тоном произносит тот и, встретив молчаливое сомнение молодых адъюнктов, продолжает. – Попробую доказать вам это незамедлительно. Мсье Кемпелен! – неожиданно громко восклицает он. – Не согласитесь ли вы произвести небольшой эксперимент. Скажем, установить магнит рядом с автоматом?
Кемпелен стоит под картиной Копеля, заложив руки за спину.
Растерянность еще сквозит на его лице; на обращенный к нему вопрос он реагирует не сразу.
– Если мсье считает, что это необходимо в интересах науки... – говорит он после некоторой паузы.
Служитель вносит в зал увесистую подкову.
– Где прикажете установить магнит, мсье Пелетье? – спрашивает он.
Мсье Пелетье, мсье Пелетъе, повторяет про себя Кемпелен и вдруг понимает, что это и есть тот самый человек, чьи фокусы он объяснял императрице. Крестный отец его автомата... Господи, они поменялись ролями!
– Рядом с автоматом, если мсье изобретатель не возражает, – говорит Пелетье.
Шум в зале стихает. Ожидание невероятного свойственно всем людям, даже ученым. Проходит минута, две, пять... Турок передвигает фигуры как ни в чем не бывало.
– Итак, господа, – продолжает свою импровизированную лекцию Декран, – мы воочию убедились, что ни изобретатель, ни его помощник для связи с автоматом магнитные силы не используют. В противном случае наш магнит прервал бы такую связь. Гипотезу о чистой машине, играющей в шахматы подобно человеку, мы обсуждать не станем, это привело бы нас ad absurdum[7]. Значит, остается последняя и единственная возможность: внутри автомата спрятан человек!
Но молодые люди еще не удовлетворены. Они же внимательно осмотрели все внутренние помещения автомата и не обнаружили живой души. Да и размеры автомата невелики, где уж там спрятаться человеку!
– Совершенно справедливо: размеры сундука малы для нормального человека. Но не для карлика! И я хочу, господа, обратить ваше внимание на любопытную деталь. Вы, конечно, заметили, что механизмами насыщен левый отсек, тогда как правый, значительно больший по размерам, на две трети пуст. Теперь скажите, какой конструктор так расточительно распорядится полезной площадью? Не разумнее ли разместить все детали машины равномерно, чтобы облегчить к ним доступ? Значит, свободное пространство внутри автомата было изобретателю для чего-то необходимо. Но для чего? Чтобы после того, как закончится осмотр и закроются дверцы, находящийся в стесненной позе карлик мог выползти из своего укрытия и расположиться более удобно!
– Тогда зачем нужна шкатулка, установленная на соседнем столике?
– Для отвода глаз. Изобретатель пытается убедить нас в том, что руководит игрой автомата при помощи некой силы, находящейся вне автомата. Но Гонэн умер, теперь нас не обманешь[8].
Молодые адъюнкты с восхищением смотрят на профессора белой и черной магии.
– Неужто он всерьез полагает, что можно управлять автоматом, находясь от него в десяти футах? – удивляется Лаплас, наблюдая за магнитным экспериментом Пелетье.
– Просто рисуется перед адъюнктами, – презрительно цедит Лавуазье.
– А что вы думаете о самом автомате?
– Печальный пример того, как общественный интерес к науке может быть употреблен ей во зло. Эта поделка сеет заблуждения своей мнимой достоверностью, ибо действия ее согласуются с весьма распространенным взглядом, будто нет такой задачи, которую нельзя было бы решить с помощью механики.
– Что значит – решить? Объясняя устройство Вселенной, мы ведь не беремся воссоздать ее.
– Разумеется, иначе вас называли бы не Лапласом. Но правомерно ли вообще рассматривать шахматную игру как некую математическую задачу?
– Шахматная игра подчиняется установленным правилам, ограничена числом фигур и клеток на доске, имеет конечную цель – чем не задача?
– Но она не имеет решения – замечает сидящий рядом старик с землистым лицом, и все почтительно замолкают. – Каждый ход противной стороны непредсказуем и может прервать логическую цепь предыдущих рассуждений.
– А если включить в формулу все расстановки фигур на шахматной доске, мсье Даламбер? – спрашивает Лаплас.
– Вы представляете число таких расстановок? Я, например, не представляю. Эйлер рассказывал мне как-то, что пытался соотнести шахматы с математикой, но дальше числового выражения сравнительной ценности фигур не продвинулся, а его мемуар о ходе коня непосредственно шахмат не касается. Так что математический анализ в шахматной игре едва ли применим. Est modus in rebus[9].
– Однако мы видим, что автомат играет в шахматы, и не видим, чтобы им кто-то управлял, – говорит Лаплас.
– Машина не может играть ad libitum[10], ею управляет человек, и он не только искусно спрятан, но и искусно ведет сражение, поскольку уже четверть часа не уступает самому Филидору. Не так ли, мсье Франклин?
Франклин водружает на нос очки.
– Сказать по правде, моя привязанность к шахматам много превосходит мое умение. Все же мне кажется, что Филидор должен взять верх, если... Если заберет коня.
Кемпелен оправился от коварного удара Лавуазье. Пробил его час. Теперь он поморочит господ академиков. Самое пикантное блюдо оставлено на десерт, когда Филидор опрокинет короля и скажет «сдаюсь».
С тайным злорадством Кемпелен поглядывает на Пелетье. Подозревает ли он о своих родственных узах с турецким пашой? Что мелет молодым людям с раскрытыми ртами? Пытается объяснить принцип действия автомата? Магнит велел принести, будто шахматные фигуры сродни его дурацким рыбкам! Может, и канделябры попросит переставить, как Кнаус?
Кемпелен продолжает наблюдения. Лаплас и Лавуазье злословят, бросая насмешливые взгляды в его сторону. Монж делает какие-то заметки, кажется, срисовывает автомат. Байи клюет носом, наверное, всю ночь просидел в обсерватории. Сарон откровенно скучает. Франклин беседует с Даламбером. Эти старые ученые видят суть вещей. Как относятся они к его шутке?
Кемпелен подходит к автомату. Игра ведется на одной доске. От Филидора утаивать нечего, да и Иоганн себя не выдаст. Мальчик не знает, что должен победить. И никогда не узнает, что результат был предопределен. Пусть гордится своей победой. Ему это пойдет на пользу. Позиция благоприятна для белых. Правда, под ударом конь, однако очередь хода за автоматом. Минут через пять все закончится.
Внимание Кемпелена привлекает Антон. Сегодня он излишне суетлив, часто дозаводит пружину и вообще ведет себя как-то не так. Может, беспокоится за Иоганна? Но, судя по игре, тот чувствует себя уверенно. Да и осталось совсем немного...
Андре-младший не отрывает глаз от доски. Поначалу все шло именно так, как он предполагал. Автомат разыграл гамбит слона, отец избрал не лучшую защиту, и белые фигуры пошли вперед. Но с некоторых пор турок словно потерял нить игры. Вместо того, чтобы планомерно усиливать атаку, стал топтаться на месте, а сейчас и вовсе оставил под ударом коня. Если отец не возьмет его, все поймут, что дело не чисто. «Ну, бери же коня, папа», – молит он шепотом...
Филидор с трудом сдерживает раздражение. Ох, и влип же он в комедию. Ни малейшего понятия о шахматах этот чурбан не имеет. Ему бы продвинуть вперед пешку, открыть линию слону... Неужели не знает, что правильные атаки ведутся соединенными фигурами? Ну ладно. Сейчас он вынудит продвижение центральной пешки. Приходится думать за двоих.
За двоих... Кто же второй? Мсье Антон? Уж больно не похож на шахматиста. Взгляд рассеянный, движения неуверенные... Значит, тот, другой, в автомате. Играет-то неважно, а вот как выглядит? Маленький, тощий, бледный... Не чета этой размалеванной кукле. Мотает головой, вращает глазами, чего доброго запоет басом, как Осмин[11]. Любопытно, как он узнает о ходах? Вот залезть бы ему самому в автомат и по всей Европе прокатиться! Сборы были бы неплохие. Да и результаты получше!.. Нет, с его комплекцией в ящик не втиснуться. Меньше клавесина. А для него и органа не хватит!
Развеселившись от собственных мыслей, Филидор добродушно поглядывает на своего визави. А тот неожиданно ставит коня под пешечный удар...
Бог мой, что он творит, снова сокрушается Филидор. Да и директор хорош! Пригласил на главную роль статиста. Его же третьеразрядный игрок одолеет. Мсье Кемпелен, да взгляните наконец на ваше безмозглое чудовище!.. Не смотрит. Досталось ему сегодня... Да и чем он может помочь? Помочь может только он сам, Филидор. Вот сейчас сыграет слоном. Плохо, конечно. Но так и быть. Даст еще один шанс.
Филидор переставляет слона и смотрит поверх голов в высокие окна. Ему не нужно доски, он отчетливо представляет себе развитие игры. Фигуры словно парят в пространстве. Коршуном с неба нацеливается конь, его поддерживает тупорылая ладья, а царственная дама приготовилась нанести смертельный удар королю. Давай же, паша, покончим разом...
Он нервно барабанит пальцами по столу.
Скрип механизма и шевеление одежд предвещает ответный ход. Филидор пристально следит за медленным движением руки. Комбинация начинается с жертвы коня. Куда же ты? – чуть не вскрикивает он, когда скрюченные пальцы слепо тычутся в ладейную пешку. Бессмысленный ход, пустая трата времени. А конь по-прежнему беззащитен...
Нет, такому игроку он уступить не может. Кто поверит? И перед сыном неловко... Обещание? Но ведь Кемпелен не выполнил условий! Он больше не считает себя связанным. Он сделал все, что смог.
И Филидор снимает коня с доски.
– Господа! – поднимается Кондорсе. – Позвольте от вашего имени выразить признательность мсье Кемпелену и мсье Филидору.
Ученые окружают Филидора, они хотят услышать мнение знатока об игре автомата.
– Я приготовился к более упорной борьбе, – говорит Филидор несколько громче, чем того требует обстановка. – Но автомат допустил столько грубых ошибок, что мне не оставалось ничего иного, как их использовать.
– Что ж, – замечает Лавуазье, errarе humanum est[12]. Вас довезти, мсье Филидор?
– Благодарю вас, мы немного погуляем.
Они выходят на набережную. Андре берет отца под руку, ощущая, как дрожит его локоть.
– Было трудно, па?
– Противно. Ты не заметил, как реагировал на проигрыш мсье Кемпелен?
– Он вел себя мужественно.
Андре избегает лишних вопросов. Он боится поставить отца в неловкое положение.
Впереди мелькает фигура в рясе. В легком кошачьем движении Андре улавливает что-то знакомое. Но теперь беспокоиться не о чем. Результат игры не дает поводов для сплетен. Он лишь крепче сжимает локоть отца, вдруг ощутив к нему прилив нежности.
– Что это ты ведешь меня, как старика?
– Прости, я машинально, – и Андре высвобождает руку.
[1] Враг рода человеческого! (лат.).
[2] Следует выслушать и другую сторону (лат.).
[3] Монж был заикой и на своих лекциях широко пользовался языком жестов. В преклонном возрасте он сказал ученикам: «Я, друзья мои, принужден оставить вас и навсегда отказаться от профессорства, потому что руки мои устарели и не повинуются мне согласно моим намерениям».
[4] Признание несостоятельности (лат.).
[5] Общее согласие (лат.).
[6] Знаменитый итальянский иллюзионист (1740-1800).
[7] К абсурду (лат.).
[8] Французская поговорка. Гонэн – знаменитый парижский фокусник XVII века.
[9] Есть мера в вещах, всему есть предел (лат.).
[10] По желанию, на выбор (лат.).
[11] Турецкий стражник в опере Моцарта «Похищение из сераля».
[12] Ошибаться свойственно человеку.
 Турнир претендентов
Турнир претендентов